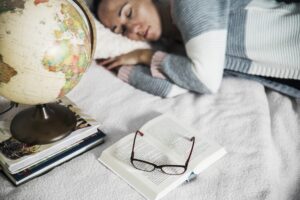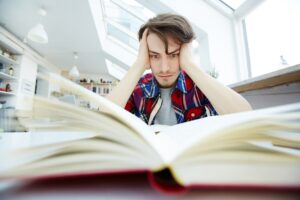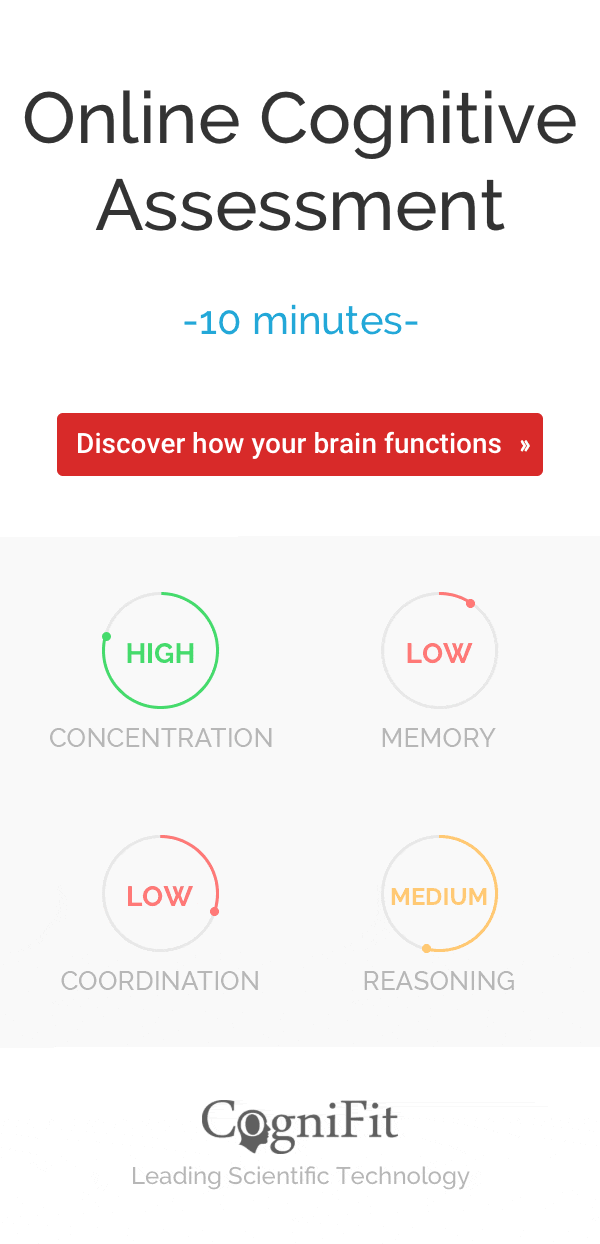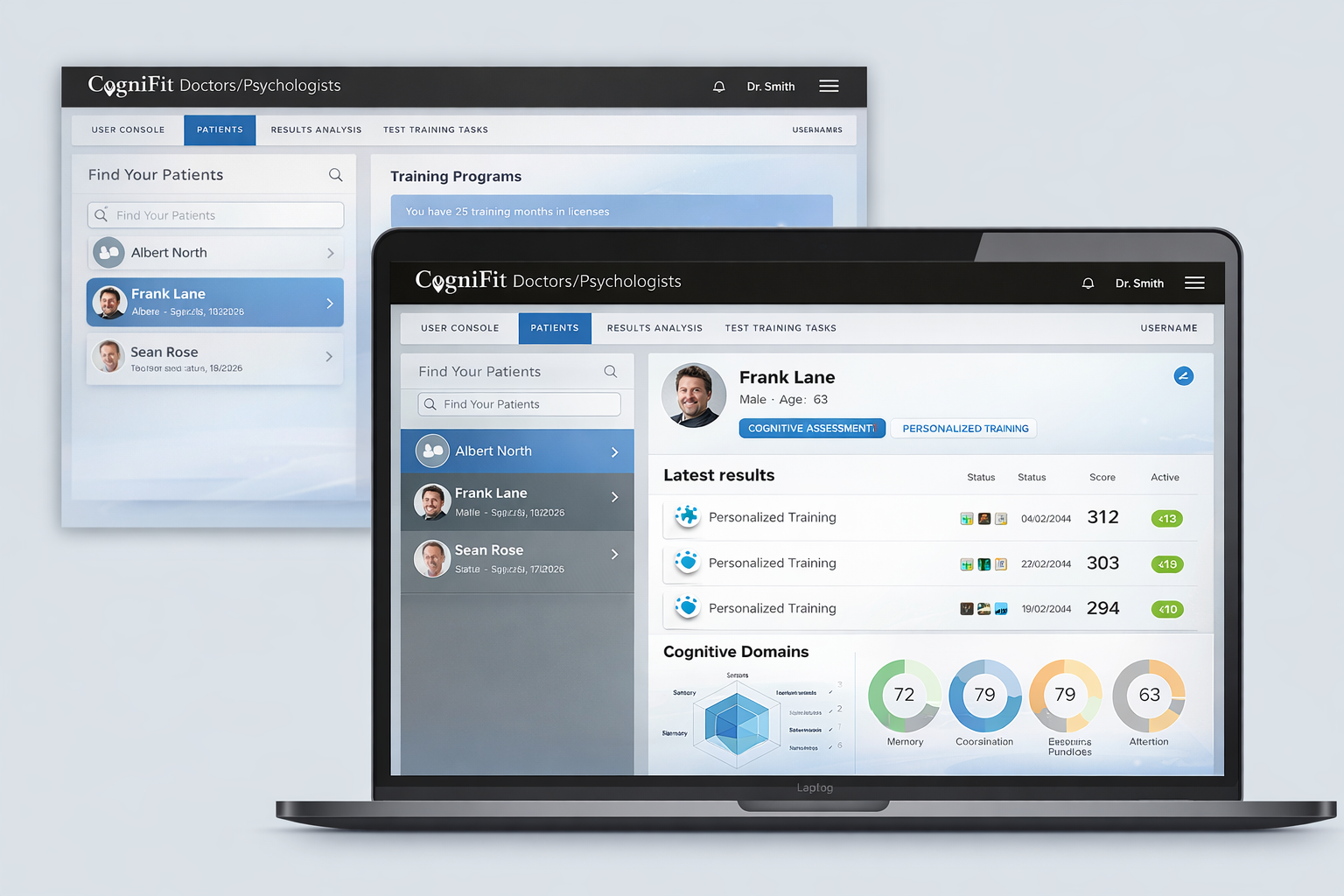Учёные нашли у попугаев речевой центр, помогающий понять нарушения речи у людей
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature в марте 2025 года, впервые выявило в мозге волнистых попугаев структурированную рече-двигательную цепь, которая очень напоминает языковые центры человека. Используя передовую нейронную запись, учёные составили карту того, как эти попугаи управляют высотой тона и особенностями звука с помощью «вокальной клавиатуры». Полученные результаты могут изменить подход исследователей к изучению развития языка и предложить новые пути диагностики и лечения расстройств речи и коммуникации у людей.

Пошаговый обзор исследования: что попугаи могут рассказать нам о человеческой речи
Исследовательская группа и публикация
Открытие сделали нейробиолог Майкл Лонг и его коллега Цзетян Ян, оба — исследователи из NYU Langone Health, академического медицинского центра при Нью-Йоркском университете. Их работа прошла научное рецензирование и была опубликована 19 марта 2025 года в престижном журнале Nature под заголовком Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks (DOI: 10.1038/s41586-025-08695-8).
Эксперимент: что именно изучалось и почему выбрали волнистых попугаев
В качестве объекта исследования учёные выбрали волнистых попугаев (Melopsittacus undulatus) — небольших, ярко окрашенных и очень социальных птиц. Эти попугаи известны не только способностью к звуковой имитации, но и тем, что являются прирождёнными вокальными учениками. Именно это делает их идеальной моделью для изучения нейронных механизмов речи.
Команда работала с четырьмя взрослыми попугаями, выращенными в контролируемых лабораторных условиях, чтобы обеспечить стабильное поведение и качество вокализаций. Птицы были заранее адаптированы к присутствию человека и к экспериментальной обстановке, что помогло снизить уровень стресса и повысить надёжность полученных данных.
Сбор данных: оборудование, методы и целевая область мозга
Чтобы зафиксировать нейронную активность птиц, учёные использовали высокоплотные кремниевые микрозонды. Эти устройства были хирургическим путём имплантированы в область переднего мозга попугаев, называемую передним аркопаллиумом (anterior arcopallium, AAC), которая, как известно, связана с контролем вокализации. AAC — это моторная зона, посылающая прямые сигналы в области ствола мозга, отвечающие за управление голосовым аппаратом — аналогично тому, как моторная кора у человека контролирует мышцы, отвечающие за речь.
Во время естественных вокализаций попугаев в звукоизолированной камере их мозговая активность записывалась в режиме реального времени. Это позволило исследователям отслеживать изменения в нейронных импульсах с точностью до момента, когда птицы издавали различные типы звуков — от коротких сигналов до сложных тональных модуляций.
Анализ данных: от нейронной активности к функциональным картам
После сбора исходных данных команда проанализировала паттерны активации отдельных нейронов и их связь с производимыми звуками. Особое внимание уделялось поиску корреляций между нейронной активностью и спектральными характеристиками звука — такими как частота (тон), гармоническая структура и распределение энергии.
Используя передовые вычислительные модели и методы выделения характеристик, они составили карту того, какие нейроны активируются для тех или иных акустических компонентов. Со временем выявилась чёткая закономерность: AAC была организована таким образом, что каждая группа нейронов соответствовала определённой звуковой характеристике, создавая «вокальную клавиатуру», похожую на фонетические карты человека.
Контрольное сравнение: зачем исследовали амадин
Чтобы выяснить, является ли такая организация мозга уникальной для волнистых попугаев или встречается и у других видов, способных к вокальному обучению, учёные также изучили зебровых амадин — вид, широко используемый в исследованиях пения птиц. Они обнаружили, что у амадин отсутствует столь же детализированная и структурированная нейронная карта, что подтвердило: вокальная моторная система попугаев гораздо больше напоминает речевые сети человеческого мозга. Среди всех известных на сегодня видов с вокальным обучением волнистые попугаи остаются единственными животными, не относящимися к приматам, у которых обнаружена такая нейронная организация, связанная с речью.
Что нового: чем отличается это исследование
Это исследование стало первым, в котором была обнаружена топографически организованная речевая карта на уровне нейронов в мозге вида, не относящегося к приматам. В отличие от предыдущих работ, сосредоточенных на звуковой имитации или поведенческих аспектах, здесь учёные показали, что у волнистых попугаев существует структурированная моторная система, управляющая вокализацией в области переднего аркопаллиума — зоне, где нейроны напрямую соответствуют определённым звуковым характеристикам, таким как высота и тембр. Эта система — своеобразная «вокальная клавиатура» — отражает ту же организацию, что и речевые центры в мозге человека. Подобной структуры ранее не находили ни у одного другого вида птиц, обучающихся вокализации, включая зебровых амадин. Благодаря использованию высокоплотных кремниевых зондов это открытие делает волнистых попугаев перспективной моделью для изучения речевых механизмов человека и разработки терапии речевых нарушений.
Ключевые выводы исследования
1. У попугаев — «вокальная клавиатура», как у человека
Нейроны переднего аркопаллиума (AAC) у волнистых попугаев формируют активность, по структуре напоминающую музыкальную клавиатуру — каждая нейронная группа отвечает за создание конкретного звукового элемента, такого как согласные, гласные или изменения высоты тона. Подобная «клавишная» организация также характерна для речевых центров в мозге человека.
Пример: так же, как пианист выбирает клавиши, чтобы сыграть мелодию, мозг попугая активирует определённые нейроны, чтобы издать трели, щебет или даже сымитировать человеческие слова.
2. Нейронная простота, акустическое разнообразие
Несмотря на структурную простоту мозга, попугай способен издавать широкий спектр звуков. Учёные обнаружили, что простые и стабильные паттерны активации нейронов могут создавать сложные звуковые конструкции — это указывает на эффективную систему, похожую на модульную организацию человеческой фонетики.
Пример: ребёнок, произнося слово «мама», активирует лишь несколько устойчивых зон мозга — возможно, попугай использует такой же упрощённый механизм для своего фирменного щебета.
3. Представление высоты тона похоже на человеческое
Нейроны в области AAC были настроены на определённые частотные диапазоны, формируя топографическую карту, аналогичную той, что наблюдается в гортанной моторной коре человека.
Пример: как человек меняет высоту голоса, чтобы выразить эмоцию или намерение («Я так рад!»), так и волнистые попугаи варьируют тональность звуков в социально значимых ситуациях — и их мозг делает это с впечатляющей точностью.
4. Конвергентная эволюция в устройстве мозга
Сходство между мозгом попугаев и человека может быть результатом конвергентной эволюции — явления, при котором разные виды независимо развивают похожие черты в ответ на схожие функциональные задачи.
Пример: как дельфины и летучие мыши независимо друг от друга приобрели способность к эхолокации, так и люди с попугаями могли по отдельности развить сложные речевые механизмы, поскольку обоим видам выгодна богатая вокальная коммуникация.
5. Новый путь к пониманию речевых нарушений
Поскольку у волнистых попугаев наблюдается чёткая связь между нейронной активностью и звуковым результатом, они представляют собой потенциальную модель для изучения того, как возникают речевые расстройства у человека при нарушении этих связей. Теперь учёные могут тестировать терапевтические подходы на попугаях, чтобы глубже понять заикание, апраксию речи или нарушения управления высотой голоса.
Пример: если у попугая выходит из строя определённый кластер нейронов, и он перестаёт издавать конкретный звук, это может быть аналогично тому, как ребёнок утрачивает способность произносить отдельные слоги после травмы мозга.
Что мозг попугаев может рассказать об изучении языка и когнитивных способностях
Речь — это не просто воспроизведение звуков. Она отражает сложные когнитивные функции, такие как память, распознавание паттернов и социальные намерения. Обнаружение у волнистых попугаев структурированной нейронной системы, управляющей вокализацией, говорит о том, что эти птицы могут задействовать процессы, схожие с теми, что участвуют в освоении языка у человека.
Исследователи считают, что способность к обучению и воспроизведению гибких звуков требует высокого уровня нейропластичности — способности мозга адаптироваться и перестраиваться. Эта пластичность — фундаментальное свойство как человеческого, так и птичьего мозга. Наличие в мозге попугаев карты звуковых признаков говорит о том, что они не просто копируют звуки, но и обрабатывают их, запоминают и, возможно, даже предвосхищают вокальные паттерны — аналогично тому, как дети учатся говорить.
Таким образом, волнистые попугаи представляют собой убедительную модель для изучения того, как мозг координирует звук с намерением, обучением и коммуникацией. Их структурированное вокальное поведение может быть основано на более развитых, чем предполагалось, механизмах памяти и последовательной обработки — навыках, тесно связанных с когнитивными способностями человека.
От лаборатории к терапии: как исследование мозга попугаев может изменить подход к лечению речи и технологиям
Обнаружение у волнистых попугаев речевых цепей, схожих с человеческими, открывает новые перспективы не только для нейронауки, но и для практического применения в медицине, образовании и технологиях. Благодаря тому, что это первый немлекопитающий вид с аналогичными вокально-моторными путями, исследование закладывает основу для новых подходов к диагностике, изучению и лечению речевых нарушений.
В клинической практике детализированные нейронные карты, полученные у попугаев, могут помочь в разработке новых методов терапии для людей с речевыми и коммуникативными расстройствами — такими как заикание, апраксия речи или нарушения высоты тона. Поскольку передний аркопаллиум попугаев функционирует сходно с речевыми зонами человека, он может служить тестовой моделью для целевой нейростимуляции или реабилитационных протоколов до их применения в медицине.
Это исследование также открывает значительные возможности для развития искусственного интеллекта и технологий обучения речи. Понимание того, как мозг попугая структурирует и воспроизводит речеподобные звуки, может лечь в основу более интуитивных систем синтеза голоса и персонализированных логопедических приложений — особенно для детей с задержками развития или пациентов, восстанавливающихся после инсульта.
В сфере образования результаты могут способствовать созданию новых методов преподавания языка, основанных на естественных механизмах обработки и воспроизведения звука. Цифровые инструменты и обучающие приложения, использующие концепцию «вокальной клавиатуры», способны улучшить произношение, ритм и интонацию у изучающих иностранные языки.
В более широком контексте это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об уникальности человеческого языка. Обнаружение схожих речевых систем у другого вида меняет наше понимание коммуникации и когнитивных процессов — и открывает путь к межвидовым знаниям, которые могут изменить подход к развитию, поддержке и обучению человеческого голоса.
Заключение: пересматривая само понятие речи
Открытие того, что волнистые попугаи используют мозговые механизмы, сходные с человеческими для производства речи, стало серьёзным прорывом в нейронауке и лингвистике. Оно не только помогает раскрыть, как работает речь, но и предлагает новую модель для изучения речевых нарушений, когнитивных процессов и даже самой природы интеллекта.
Выявив в мозге этих ярких и социальных птиц нейронную «вокальную клавиатуру», исследование ставит под сомнение давние научные представления и поднимает более глубокие вопросы: могут ли другие виды быть ближе к нам, чем мы думали? Являются ли корни речи более универсальными, чем предполагалось?
В конечном счёте, щебет попугаев может быть не просто подражанием — возможно, он отражает саму структуру человеческого голоса.